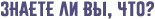автор: ![]() Morfling [16]
Morfling [16] 
Последний день
Последний день.
Дата неразборчива.
Наша часть прибыла в маленький городок рядом с линией фронта. Первым, что я увидел, высаживаясь из холодного вагона, был старый, уставший вокзал, с выцветшей вывеской, на которой из названия остались только две последние буквы. На перроне было пустынно, и только вокзал вздыхал в такт ветру, бегущему за старой газетой.
Капитан выстроил роту в две шеренги. Мне нашлось место за плохо пахнущим толстяком с короткими соломенными волосами и багровой шеей. Наверное, в прошлой жизни он был возничим, его серый пиджак, пропитанный запахом конюшни и прокисшего вина, порвался, и сквозь прореху проглядывала застиранная рубаха с крупными цветами.
Ротный скомандовал: «Направо», и колонна людей, подобно рептилии, медленно поползла в сторону серого деревянного сарая, распахнувшего свои ворота огромным ртом готовым проглотить нашу серо-коричневую змею. Рядом с воротами стоял часовой, безразлично наблюдавший прозрачными водянистыми глазами, очередную группу людей, уходящих за границу города Павлоград, Новоград или еще какой-то град.
В ангаре, хромая на правую ногу, ко мне подошел старик, с желтыми от табачного дыма усами, сунул, не поднимая глаз, пару белья, форму, сапоги и коричневый, размером со спичечный коробок, обмылок. Потом, все также шаркая и потупив взгляд в пол, прошамкал: - «Омоешься за сараем», и, отвернувшись, добавил: - «… в последний раз».
Белье было сырым, и после переодевания кожа покрылась мелкими пупырышками, захотелось горячего чая и огня, но ни того, ни другого не предложили. Пришлось запахнуть шинель поплотнее и встать в строй. Люди подтягивались к командиру, на ходу неуклюже поправляя непривычное обмундирование, не всем пришедшееся по плечу.
Вдруг где-то недалеко, как будто это сипел репродуктор на пустом вокзале, раздался свист, а после грохнул взрыв. Донеслись крики раненных и ржанье лошадей, от неожиданности, интеллигентного вида мужчина, может быть учитель или инженер, присел и прикрыл редеющие волосы обеими руками, кто-то упал лицом в канаву, и теперь отряхивая прошлогоднюю листву, пытался выбраться на дорогу. В воздухе запахло мартовской грязью, унынием и страхом.
Подъехала подвода, с которой соскочили пара солдат и хмурый старшина, с повязкой через глаз. Когда откинули брезент, я увидел несколько ящиков с замасленным оружием и боеприпасами, тускло блестевшими в свете тухнущего дня. Каждый подходил к телеге, называя фамилию, наш капитан ставил крестик на потрепанном списке, слюнявя огрызок карандаша, от чего его губы и язык становились синего цвета, будто он пригоршнями ел чернику.
Закончив выдачу оружия, старшина с подчиненными засуетились и быстро поехали в сторону складов, а наш отряд, построившись, двинулся по узким городским улочкам.
Пройдя метров двести, мы вышли на городскую площадь. Когда-то в ее центре была разбита большая клумба с розами, вокруг стояли бронзовые скамьи с львиными лапами вместо ножек, трехъярусный фонтан и памятник летчикам дополняли праздничную атмосферу.
Но сегодня на этом месте взорвался снаряд или бомба, в образовавшейся воронке лежал перевернутый фургон. Вокруг были раскиданы ящики и бегали солдаты. В фургон была запряжена пара лошадей, одна из них лежала мертвая под фургоном, и из под повозки торчал только конский круп, вторая лошадь лежала на откосе образовавшейся ямы и у нее из уха торчал обломок черенка от лопаты. В тот момент я подумал, что лошадь не умерла во время взрыва - она была только ранена, и кто-то добил ее из жалости. Комок подкатил к горлу, но я сдержал порыв. Рядом с фургоном лежал молодой ефрейтор. Одним глазом он уставился в свинцовое небо с выражением неестественного удивления, другая половина его лица превратилась в красное месиво. Я заметил, что его карманы были вывернуты.
После захода солнца объявили привал. Я и то ли учитель, то ли инженер, скрюченными, замерзшими пальцами стали собирать влажный хворост, чтобы хоть как-то обогреть себя в ближайшую ночь. Пока собирали дрова, мой помощник оступился и споткнулся в темноте о корень дуба, сквозь голые ветки которого, просматривались звезды. После нашего возвращения молодой парень, по виду из рабочих, сбегал к ближайшему ручью за водой. Нам удалось развести огонь, и приготовить на ужин суп из концентрата и бледный чай. Тем временем в сторону офицерской палатки, громыхая половником и источая запах тушенки с картошкой, проехала полевая кухня. Она заглушила глухие раскаты орудий.
Подъем объявили затемно, быстро собравшись, наше подразделение двинулось в сторону раскатов. Звезды затухали, и над ближайшим холмом показался красный обод, забрызгивая розовым облака на горизонте. Я шел в ногу с моим новым знакомым, наверное, он преподавал рисование в школе, но кому теперь нужно рисование, и потому он шагал рядом со мной. Его левый сапог пострадал ночью после встречи с крепким корневищем и оторвавшаяся подошва, как жадная псина, лакала мутную придорожную воду.
За несколько минут вокруг все поменялось, розовый рассвет побагровел, солнце стало похоже на вываливший рубиновый язык, а облака повисли бесформенной пеной по краям оскалившейся пасти. Потом небо затянуло низкими, тяжелыми тучами, и кто-то там сверху стал пристегивать их к горизонту крупными стежками дождевых нитей. Под ногами зачавкало еще сильнее.
Сзади я слышал одышку Толстяка, того, что стоял передо мной на перроне. Он свистел как кузнечный мех, и я вспомнил, как долго он вчера не мог попасть ногой в штанину. Сырое белье сыграло с ним злую шутку на ветру. Толстяк брел сквозь набирающий силу шторм, весь раскрасневшийся, с проступившим на переносице потом, его круглое и плоское лицо, было похожим на срез окорока с капельками жира.
Но буря так и не началась, дождь ослаб, и небо поднялось выше. Дорога привела к селу без названия. Во дворе первой сгорбленной хаты копошилась такая же горбатая старуха, лицо ее, разрезанное на мозаичные кусочки глубокими морщинами, на минуту оторвалось от ведра с редькой, горький запах которой донесся до меня.
И тогда я вспомнил свою мать, которая ранним утром выгоняла нашу корову на пастбище после дойки, судачила с соседкой, перебирая, свежую морковь, варила кукурузную кашу, аромат которой будил меня и младшего брата, потом садила всю семью за стол. Мы с братом ерзали на широкой дубовой лавке и все не могли дождаться, когда первая ложка достанется отцу…
От отца и брата уже полгода нет вестей, а я писал матери всего два дня назад. Письмо аккуратно склеил и передал с лысеющим одноруким почтальоном. Он важно глянул на конверт и сложил в глубокую сумку на широком ремне через плечо, потом посмотрел на меня и застеснялся своей культи, безжизненно болтавшейся в полупустом рукаве.
Рядом с колодцем я увидел суку, вылизывающую своего единственного щенка, ее ребра частоколом просвечивались сквозь обтянутые шкурой бока, мокрый и шершавый язык непрерывно елозил по холке детеныша. Ветер был такой же мокрый и шершавый, только без всякой ласки и любви проникавший под шинель.
Старухин двор остался позади, за деревней начался лес, впереди загукало громче, как будто там сидел гигантский расстроенный ребенок и с каждым нашим шагом он расстраивался все больше и гукал еще громче, и не было в мире силы, которая может усмирить это разбушевавшееся дитя.
Толстяк начал бухыкать и оттянулся в конец колонны, цвет его лица изменился с багрового на желтоватый, взгляд терял осмысленность, но никого это не волновало. Навстречу потянулась вереница раненых, протарахтел грузовичок с красным крестом, проехав мимо Толстяка и обдав его жирной жижей, последней надеждой скрылся за поворотом. Дождь усилился, и конец колонны пропал в мороси, Толстяка я больше не встречал.
Я двигался вперед и пытался определить который час, время медленное и вязкое тянулось тонкой струйкой воды из рукомойника, и хотя мне казалось, что уже полдень, капитанские часы показали без четверти одиннадцать. Учитель рисования отстал еще где-то в деревне и рядом был только парень, ходивший ночью за водой. Он пытался свернуть самокрутку, но сырой табак не желал укладываться в трубочку из газетного обрывка, мокрая бумага расползалась, рассыпая махорку мелкой крошкой на дорогу.
Время от времени кто-то выходил из строя справить нужду, и тогда грузовик, сопровождавший нашу роту, притормаживал, чтобы зоркий офицерский взгляд мог следить за возвращением в колонну. Никто не убегал в промокший придорожный лес и расстроенный офицер, поглаживая кобуру своего револьвера, сплевывал в кювет, рукой давая знак водителю ехать дальше.
Привал на опушке. Звук боя был постоянным и отчетливым.
Всюду дымили самокрутки, офицер из кабины своего авто в небольшую щель окна стряхивал пепел с папиросы. Кто-то, расправлял скомканную, в пятнах крови портянку, и жаловался на натертую ногу. К тому времени моя шинель пропиталась водой и весила пуд, а может и все два.
По рядам прокатился шепоток о том, что еще немного, и мы будем окапываться. Значит, мы будем второй линией, а может третьей.
Двадцать минут пролетели незаметно. Движение возобновилось. Последний километр пути наша рота двигалась медленно и натужно, как лошадь, вспахавшая поле и бредущая в стойло. По сторонам стали все чаще попадаться воронки, в них прикрытые шинелями, брезентом, а иногда и просто так лежали тела людей, когда-то так же шагавших от станции с покосившейся вывеской «…АД» сюда, теперь безразличные к дождю, голоду, жизни. Мой молодой товарищ наклонился и вытащил из-за пояса одного из безразличных саперную лопатку, я последовал его примеру.
Нас нагнал Учитель. За это время он разжился новым сапогом. И я не стал спрашивать, откуда у него обувь, знал, и не хотел слышать.
Мы прошли остаток пути молча. Ротный скомандовал растянуться в шеренгу на ближайшей высотке, с которой просматривался плоский и грязный луг. Разойдясь на три метра, мы начать копать траншею. Со стороны было похоже, как будто влажная земля забирает нас, сначала по колено, по пояс, потом с головой.
Хочется есть и спать. Карандаш совсем истерся. Звуки боя набегают волнами.
Не знаю, вернусь ли я домой, но в воздухе сегодня отчётливо ощущается запах смерти...

 Фракции
Фракции